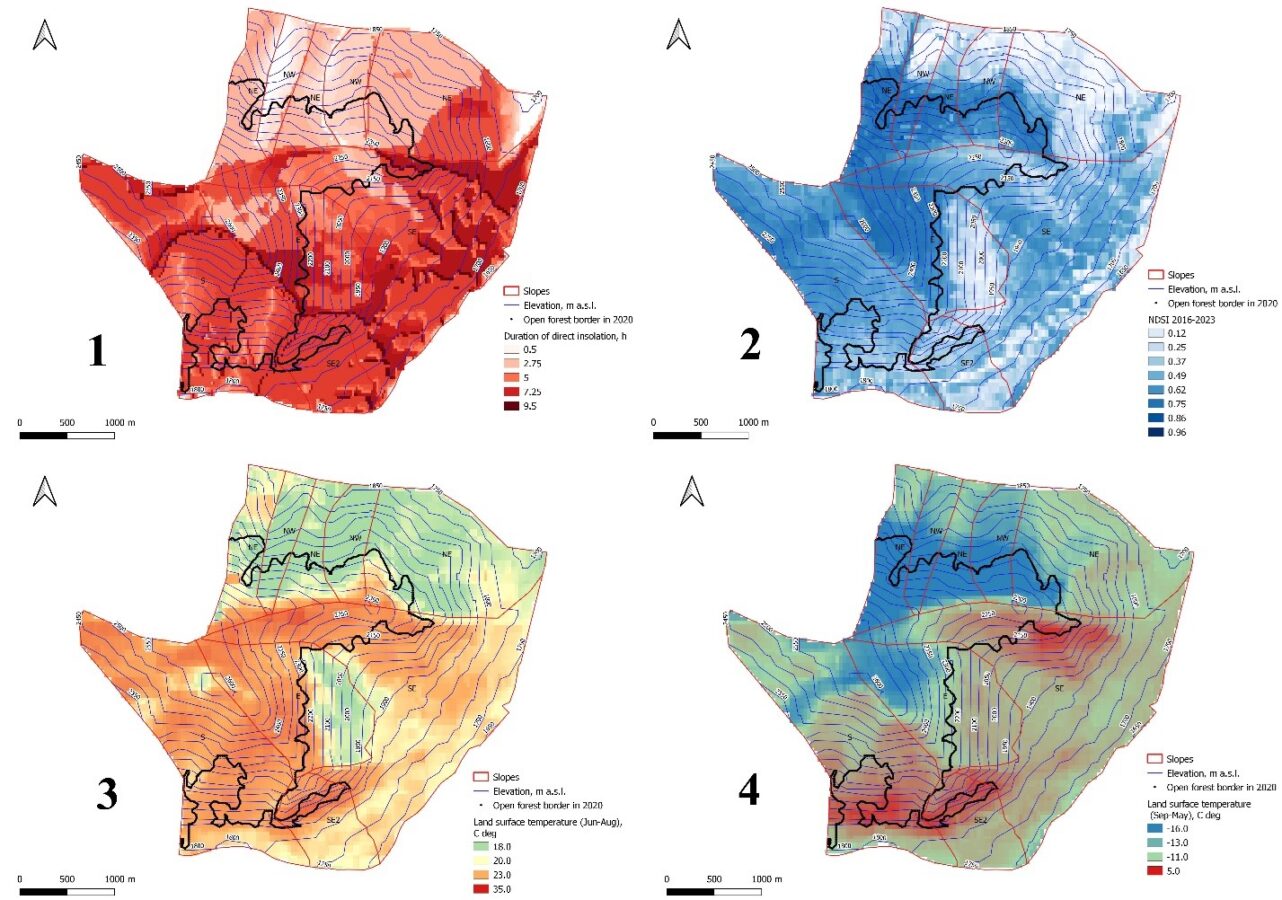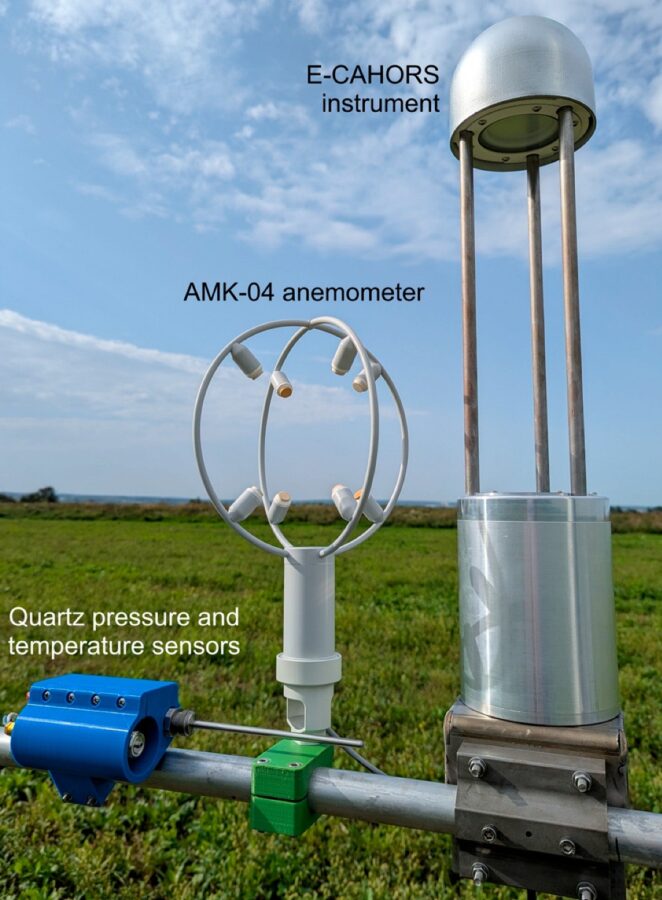К 225-летнему юбилею Александра Пушкина приурочен выпуск «Вестника РФФИ. Гуманитарные и общественные науки». Одна из статей сборника, написанная доктором филологических наук, профессором Литературного института им. А.М.Горького и МГИМО Иваном ЕСАУЛОВЫМ посвящена Каменноостровскому циклу стихов, который с недавних пор пушкинисты называют «завещанием» поэта.
Почему? Об этом для читателей «Поиска» рассказывает Иван Есаулов.
— Иван Андреевич, что такое «Каменоостровский цикл стихов» и когда это понятие вошло в пушкинистику?
— В 50-х годах прошлого века пушкинист Н.В.Измайлов обнаружил автограф пушкинского стихотворения «Мирская власть» и опубликовал об этом отдельную статью.
Основываясь на пушкинских пометах римскими цифрами II, III, IV, VI над несколькими стихотворениями, написанными поэтом на даче петербургского Каменного острова летом 1836 года, Измайлов впервые в пушкинистике назвал каменноостровские произведения «лирическим циклом». То есть научный приоритет в этом принадлежит ему.
К настоящему времени имеется уже достаточно обширная исследовательская литература, посвященная выяснению семантики цикла. Поскольку Пушкиным этот цикл не был опубликован, существуют различные версии как его состава, так и последовательности частей (например, пушкинисты спорят о том, помету над стихотворением «Из Пиндемонти» нужно прочитывать как VI или же как №I).
В цикле своих научных статей, а также в устных выступления в «Беседах о русской словесности» на радио я попытался детально обосновать следующий состав и порядок стихотворений: 1. «Из Пиндемонти» + набросок «Напрасно я бегу к Сионским высотам»; 2. «Отцы пустынники и жены непорочны»; 3. «Подражание италианскому»; 4. «Мирская власть»; 5. «Когда за городом, задумчив, я брожу»; 6. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
— «Памятник» широко известен, но без акцента на его принадлежность к «циклу».
— В том-то все и дело, что пушкинское стихотворение, которое принято у нас называть «Памятник» (у самого поэта такое название отсутствует), до сих пор рассматривается либо изолированно, либо в ряду других парафразов исходного горацианского источника, либо же в контексте всего творчества Пушкина, но, вопреки собственноручному указанию поэта «1836. Авг. 21. Кам. остр.», не как неотъемлемую часть Каменноостровского цикла. Ясно, что таким образом произведение уже словно бы изымается из его окружения.
— Почему же так случилось?
— Дело в том, что рассмотренное как часть Каменноостровского цикла это произведение яснее и определеннее проявляет присущие ему православные ценностные коннотации, что было, в свою очередь, чуждо как дореволюционной либеральной, так и сменившей ее советской пушкинистике.
Впрочем, как мы увидим далее, даже и непосредственно христианская образность, присущая этому тексту, зачастую редуцируется и переводится при его истолковании в какой-то иной абстрактно-метафорический план.
К сожалению, и Н.В.Измайлов, первооткрыватель Каменноостровского цикла именно как цикла, а не только набора пушкинских стихотворений, написанных в определенное время в местности под Санкт-Петербургом, выдвинувший предположение о «Памятнике» как о части цикла (при этом поставив это стихотворение на первое место), после резких возражений влиятельных противников подобного прочтения (М.П.Алексеева, Н.Л.Степанова и Р.Д.Кейля) вынужден был отказаться от своей гипотезы. С моей же точки зрения, «Памятник» представляет собой завершение, увенчание последнего пушкинского цикла.
Вопрос о последовательности текстов в данном случае имеет особый смысл, потому что (и тут в современной пушкинистике как раз нет разногласий) самой авторской нумераций стихотворений, а также, конечно, содержанием пушкинский цикл соотносится с последовательностью евангельских событий, вспоминаемых на Страстной неделе (Великие среда, четверг и пятница). Так, стихотворение под номером II («Отцы пустынники и жены непорочны»), парафрастически передающее молитву Ефрема Сирина, отсылает как к Великому посту, в стихотворении III («Подражание италианскому») Пушкин обращается к участи Иуды, в стихотворении IV («Мирская власть») — к распятию Христа.
Иными словами, несомненна неслучайная последовательность этих текстов. И столь же несомненна их авторская приуроченность к Страстной седмице.
— В чем загадка этого цикла и является ли она предметом исследования пушкинистов?
— Загадочно здесь почти всё — от самого состава цикла и последовательности его частей до смысла обращения позднего Пушкина к смыслу православного богослужения и смыслу Страстной недели: что именно побудило нашего поэта, имевшего в своей царскосельской юности прозвище Француз, в последний период творчества обратится к православной тематике и парафрастистически передать богослужение в собственных стихах?
Конечно же, после открытия Измайлова многие пытались так или иначе разрешить эти загадки. Могу выделить работы пушкиниста С.Давыдова (потомка того самого знаменитого Дениса Давыдова, героя войны 1812 года), В.П.Старка, С.А.Фомичева, И.З.Сурат. Тем не менее и их очень полезные во многих отношениях труды все-таки не вполне отвечают на эти вопросы, и мне они далеко не во всех аспектах представляются вполне корректными.
Именно поэтому я сам в последние годы и предпринял новую попытку «дешифровки» пушкинского цикла.
— Можно ли отнести эти стихи к шедеврам поэзии Пушкина или в них ценно что-то иное?
— Каменноостровские стихи — подлинные шедевры пушкинской поэзии, может быть, лучшее, что было им написано. Хотя, конечно, «плохих», «ученических» стихотворений у Пушкина, в отличие, скажем, от Лермонтова, нет вообще.
И все-таки с возрастом гений Пушкина меняет, так сказать, свой вектор пути. Пушкин оставляет далеко позади себя своих современников и ведущих критиков как своей эпохи, так и последующих.
В том, что последний этап лирики Пушкина — вершина его развития как поэта, из ведущих отечественных литературоведов усомнился, пожалуй, лишь один Ю.Н.Тынянов, согласно чрезвычайно оригинальному суждению которого, высказанному в знаменитой статье «Литературный факт», в лирике Пушкин — «к концу только самый остроумный и лучший собственный эпигон».
Впрочем (если не брать в расчет некоторых пушкинских современников, уверенных, что Пушкин к концу жизни уже «исписался»), о «закате таланта» поэта объявлял же и В.Г.Белинский — в рецензии на издание его стихотворений в 1835 году: «В этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный».
Так что между революционно-демократической критикой и формалистским «спецификаторством» имеется более глубокая преемственность, чем это принято у нас считать. Но Пушкин с годами стал мудрее. Отдав юношескую дань «безумству гибельной свободы», поэт обрел другую свободу (с большой буквы, как в его «Памятнике») — внутреннюю, духовную, христианскую.
— Почему вы называете каменноостровские стихи «завещанием» поэта? Удалось ли вам раскрыть его суть?
— Должен заметить, что не только я: в последние годы так считали и многие из тех пушкинистов, которых я упомянул выше. Нам остается «всего лишь» адекватно прочесть (истолковать) это «завещание» (разумеется, это слово следует понимать метафорически), что, конечно, многократно и осуществлялось, но в иных контекстах понимания, нежели тот, что я предлагаю. Мой собственный акцент состоит в том, что «завещание» это я называю «пасхальным», в этом и состоит, как мне представляется, сама его суть.
Между прочим, такое прочтение может кардинально изменить практику школьного и вузовского «представления» Пушкина, ведь от понимания природы последнего этапа (вершины пути поэта) существенно зависит в целом как «подача» всего пушкинского «материала», так и даже осознание русской литературы как таковой, учитывая значение Пушкина для нашей литературы и культуры.
Пушкинский цикл, передающий последовательность и настроение Страстной седмицы, заканчивается у Пушкина (в полном соответствии с христианской традицией) пасхальной нотой, ведь и сам Великий пост является паломничеством к Пасхе.
Ни в одном парафразе оды Горация как до Пушкина, так и после нет никаких собственно пасхальных коннотаций, в них речь идет исключительно о сохранении в памяти потомства своей «части», поэтического инобытия человеческого «эго».
Как справедливо подчеркивалось многими исследователями, лишь в пушкинском парафразе появляется слово «душа», манифестируется глубинная связь между душой и творчеством («душа в заветной лире»).
Это таинственное и небывалое соединение можно было бы прочитать исключительно метафорически, но ведь душа непосредственно (и совершенно в данном случае «традиционно», если говорить о христианской, а не об античной традиции) контрастирует с телесностью («прахом»): отнюдь не моя же «лира» переживет мое бренное тело, утверждает Пушкин, нет, именно моя душа, хотя и «в заветной лире».
«Милость к падшим», как и прославление свободы, в редуцированной традиции истолкования пушкинского парафраза слишком часто воспринималась в малом времени его жизни.
Однако же если мы будем рассматривать пушкинский «Памятник» как финальное стихотворение всего Каменноостровского цикла, а одновременно и как последнюю страницу его завещания, то четвертая строфа текста приоткрывает и совсем другие смыслы.
Восславляемая здесь «свобода» непосредственно отсылает читателя к первому тексту цикла («иная, лучшая, потребна мне свобода»); это не свобода «права» или «печати», а в конечном счете христианская свобода от греха.
Падшие в этом контексте — это не только другие (у которых, по-видимому, в силу некоторого их самоослепления правами «кружится голова»), но и в целом все люди, отягченные грехом, опять-таки, как и сам поэт, за кем «грех алчный гонится», — падший («и падшего крепит неведомою силой»).
Свобода вовсе не так уж противоположна тому послушанию, которое возникает в последней строфе стихотворения (и всего цикла). В пушкинском же тексте античная гордость этой Мельпомены-Музы (ср. исходное горацианское «испытай же гордость, снисканную твоими заслугами») преображается в христиански-смиренное «будь послушна».
В начальном тексте цикла («Из Пиндемонти») еще имеется все-таки некое человеческое, слишком человеческое упование на себя, на свои собственные силы. Тогда как в последнем тексте цикла мы видим существенную переакцентировку: то представление о личной свободе, о котором ведь, в сущности, и было сказано ранее («Вот счастье! Вот права…»), углублялось и переосмысливалось на протяжении всего пушкинского поэтического мимесиса Страстной недели, чтобы прийти к иной формуле: «Веленью Божию, о, муза, будь послушна».
Это сочетание свободы и послушания, свободное послушание, является подлинным поэтическим открытием Пушкина. Ранее в цикле оно относилось к отцам пустынникам и женам непорочным, однако в финале соотносится уже не только с Музой, пушкинской музой, но и, будучи финальным образом, с его собственной творческой интенцией как поэта.
Таким образом, поздний Пушкин приходит к выводу, что быть послушным «велению Божию» — цель творчества.
— Можно ли говорить о том, что этот цикл стихов по-новому открывает нам поэта?
— Для меня несомненно, что односторонними являются как попытки непременно вписать этого нашего «француза» в европейский культурный контекст, преимущественно инославный, так и обязательно увидеть в его произведениях сплошь «местное» православное содержание. Ф.М.Достоевский, говоря о значении Пушкина для России, особо выделил «способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций».
Согласно убеждению Достоевского, «способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим , он есть и совершеннейший выразитель этой способности в деятельности художника».
В письме к А.А.Бестужеву Пушкин замечает, что Крылов «выше Лафонтена», хотя тот и другой, по Пушкину, — «представители духа обоих народов». Из этого следует, что парафрастическое творческое преображение в иных случаях может и превосходить «оригинал».
В стихотворениях Каменноостровского цикла соединились церковно-славянское и итало-французское (а еще и римско-античное) культурные поля.
Однако соединились не на абстрактно-«общечеловеческом» фундаменте, а на фундаменте христианско-вселенском, в его православном (для русской культуры) изводе, акцентируя пасхальный смысл этой культуры: паломничество к Пасхе как духовный путь самого поэта.
Беседу вела Светлана БЕЛЯЕВА